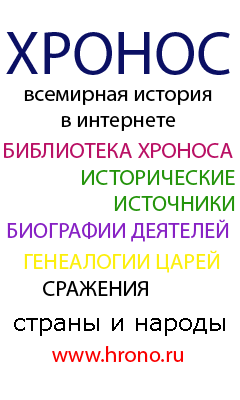Пенник Н., Джонс П. Этруски
В восьмом веке до новой эры, когда греческое общество возрождалось после пост-микенского «темного периода», в западной и центральной Италии возникла высоко развитая цивилизация. В течение трех столетий этруски доминировали в Западном Средиземноморье. Они добывали медь, делали оружие, утварь и ювелирные украшения, развивали сельскохозяйственное производство, были знакомы с инженерным делом (в том числе и с ирригацией земель) и торговали с греками, карфагенянами, финикийцами и другими членами тогдашнего международного сообщества. Что касается материка, их купцы путешествовали в Галлию, Германию и балтийские страны, обменивая вино и медь на янтарь и соль. Считается, что именно у них кельты центральной Европы позаимствовали двухколесную боевую колесницу.
Около 545 года до н. э. их мощный флот объединился с карфагенским с тем, чтобы сдержать греческую экспансию в Западном Средиземноморье. Благодаря их инженерным и организационным искус-
[53]
ствам в конце седьмого века до новой эры возник город Рим, и два, если не три первых римских царя были этрусками (304, 168, 235).
Этруски считались большими специалистами в области гадания и мантических искусств; а их культура, как показывают фрески из гробниц, знала музыку, танцы, пиры, атлетические соревнования и письменность. Шестой век до новой эры, время правления последних трех полулегендарных римских царей, знаменует собой пик власти этрусков. После этого этрусские города, центры культуры, лишенные, увы, единой организации, один за одним пали под целеустремленным натиском Римской Республики. Победители переписали историю, и теперь о наследии цивилизации этрусков можно узнать лишь из археологических находок, свидетельств древних историков да из немногих сохранившихся надписей, расшифрованных только частично. Двенадцатитомная история этого народа, созданная в первом веке нашей эры императором Клавдием утеряна.
Относительно того, откуда происходят этруски, существуют различные мнения. Большинство древних комментаторов полагало, что они пришли в Италию из Восточного Средиземноморья, но Дионисий Галикарнасский в первом веке до новой эры писал, что этруски были коренными италийцами, которые быстро и охотно учились у иноземных торговцев и завоевателей, особенно — у южно-италийских греков. Современные археологические данные также не позволяют сделать однозначных выводов. Искусство этрусков, однако, по стилю напоминает греческое или финикийское, их гидравлические инженерные сооружения более похожи на египетские «плодородные разливы» (FertileCrescent), чем на что-либо подобное, существовавшее в Италии до этрусков или в одно с ними время, наконец, их политическая организация сродни, скорее, централизованным теократичес-
[54]
ким царствам Среднего Востока, чем демократическим городам-государствам Греции, в которых ни один житель не воспринимал правителя в качестве воплощения бога. Все города этрусков сохраняли независимость, но на изначальной территории их расселения, в современной Тоскане, главные города объединились в Лигу Двенадцати. Центром ее было святилище в Тарквиниях, где один раз в год представители всех городов совершали совместный ритуал жертвоприношения.
Самые ранние этрусские находки датируются временем около 750 года до н. э. Выросшие в седьмом столетии в центральной и северной Италии города превратились в торговые, сельскохозяйственные, горнодобывающие н ремесленные центры. Развитая городская цивилизация этрусков ярко контрастировала с примитивными деревенскими поселениями местной культуры Виллановы. В шестом веке до новой эры владения этрусков расширились на севере до долины реки По, а на юге — до Кампании, а между 625 и 609 годами до н. э. они также частично колонизовали Лациум, в том числе и Рим. Торговые связи этрусков простирались на север до Черного и Балтийского морей, а заключенный около 545 года до н. э. морской союз с Карфагеном позволил им стать хозяевами в Западном Средиземноморье. К концу шестого века во многих этрусских городах единоличное правление сменилось олигархическим, и в течение двух последующих столетий Этрурия постепенно утрачивала свои позиции вследствие поражений на Средиземном море, постоянных набегов кельтов на Апеннины и долину реки По, и экспансии Республиканского Рима. Тем не менее культурное влияние этрусков сохранялось в центральной Италии вплоть до пятого века нашей эры, когда христианский город Рим, которому угрожал гот Аларих, принял предложение нескольких этрусских посланцев провести церемонию, которая якобы нашлет на завоевателей гром и молнии, что
[55]
заставит их повернуть назад. Однако ритуал этот должен был быть совершен публично, в присутствии всего Сената, чего Папа никогда бы не позволил, поэтому от плана пришлось отказаться (359; V. 41).
Древнейшие из известных нам памятников этрусской культуры — изысканные каменные гробницы, датируемые 750 годом до н. э., — сначала квадратные, а позднее куполообразные, абсолютно не похожие на простые захоронения урн и погребальные ямы окружавших их народов. Культ мертвых занимал в этрусской культуре, как и во многих языческих обществах, весьма важное место на всем протяжении ее существования. Фрески в гробницах изображают божественных существ, ожидающих души умерших. Останки удостаивались высоких почестей и помещались в роскошный саркофаг. К сожалению, мы не знаем, являлось ли это отражением существовавшего у этрусков культа предков, со святилищами героев и умилостивляющими ритуалами, как у греков, или же мертвых просто считали принадлежащими уже к сонму божеств подземного мира.
Последнее более вероятно, ибо религия этрусков была не просто религией обычая и прецедента, как большинство языческих, «религией откровения», в священных писаниях которых подробно описывались церемониальные практики и ритуалы, а также природа и характер божественных сил. Как сообщает Цицерон, па поле около р. Марты, принадлежавшем крестьянину по имени Тархон, из только что пропаханной борозды чудесным образом явился ребенок. Тархон призвал жрецов, которым ребенок (заявивший, что он - Тагет, сын Гения, сына главного бога Тинии) продиктовал священное учение, после чего упал замертво. Выполняя наказ Тагета, Тархон основал на этом месте священный город. Он получил название Тарквинии, и ему суждено было стать священным городом Лиги Двенадцати. Уче-
[56]
ние Тагета сохранилось в священных книгах, разделенных, как и многие этрусские таинств (sacra), на три части: книги, посвященные гаданию (по внутренностям), посвященные толкованию знамений (особенно молнии) и посвященные ритуалам. Последние, в свою очередь, также делились на три «раздела»: книги по искусству распределения времени, книги о загробной жизни и правила толкования, искупления и умилостивления духов.
Этрусские священнослужители и прорицатели были профессионалами: в течение многих лет их наподобие вавилонских ученых обучали в специальных школах. (Примечательно, что этрусское слово мару точно также обозначает священнослужителя или судью, т. е. «профессионала», в отличие от жрецов и жриц эллинистического мира, занимавшихся религиозными делами время от времени, или даже от тех прорицателей и прорицательниц, что «работали» постоянно, но не получали тем не менее специального образования) (304; 228). По-видимому, у этрусков любое знание наделялось сакральным смыслом («мирского» образования у них, в отличие от греков, почти не было или не было вовсе). И в равной степени этот самый сакральный мир подвергался через тщательный ритуал гадания дотошной проверке и осмыслению, причем до такой степени, что не только мы, по и римляне, жившие с этрусками бок о бок на протяжении нескольких столетий, назвали его суеверным. Тонкую и развитую технику гадания этрусков многие римляне (в частности, Цицерон и Катон) отвергали потому, что предпочитали получать от богов простой ответ типа «да-нет», а не подробные предписания и анализ, которые «добывались» этрусскими методами.
Правитель города одновременно являлся и главным священнослужителем, лукумоном (lucumo). Его диадему, скипетр, пурпурное одеяние, его lituus (загнутый авгурский посох), или жезл, трон из слоновой кости
[57]
заимствовали сначала римские власти, потом императоры и, наконец, Римский папа и кардиналы. Символы власти правителя — фасции, розги для наказаний, и двойной топор — также переняли сначала римляне (они, правда, использовали обычный топор), а уже в двадцатом веке их восстановил — фашистский диктатор Муссолини.
В обязанности лукумона и его помощников входило отправление общественно значимых церемоний этрусской религии, но в качестве советников выступала коллегия ученых, гаруспиков (haruspices), ныне известных, в первую очередь, благодаря их гадательному искусству. Гаруспики были также астрономами, математиками и инженерами. Даже после того как Рим сокрушил политическую власть этрусков, коллегия гаруспиков сохранилась в этом городе как часть административной системы. Именно гаруспик предупреждал Цезаря о мартовских идах. Священные обязанности лукомонов после свержения этрусских царей в Риме исполнял церемониальный «правитель», rex sacrorum (царь жертвоприношений). Этрусские города и деревни все строились по одному плану, носившему священный характер.
Планировка была четырехугольной, ориентированной по четырем главным сторонам света. Из центральной точки города к четырем воротам (каждое по центру четырех городских стен) расходились четыре дороги (впрочем, обычно три, ибо северная зачастую отсутствовала).
Вероятно, подобная планировка идет еще из бронзового века, поскольку с использованием бронзового плуга совершалась церемония отметки границ города. Однако она может иметь и местные истоки, ибо точно такая же квадратная модель просматривается и в североитальянских поселениях, например, в культуре Терраморы (terramaricoli) бронзового века. Этрусский вариант может, однако, происходить и от центральноазиатского священного
[58]
прообраза, отражающего воспринимаемую модель космоса (годовой путь солнца разбит на четыре части солнцестояниями и равноденствиями), который знаком нам из месопотамской священной астрономии (293, 159), ибо известно, что для проведения гадания этруски делили на четыре части не только Землю, но и небо. Варрон, описывая четырехчастную модель этрусских послений, сообщает, что ее точно воспроизводит римская цитадель, древний «Рим четырех округов» (Roma quadrata) на Палатинском холме. Сами римляне были убеждены, что взяли эту модель планировки города у этрусков. Римский квадратный город с отмеченным камнем (а не ом-фалом, как в Греции) центром, с тремя воротами и тремя дорогами сохранился и поныне в расположении улиц Турина, Тимгада в Алжире (основанного Траяном в 100 году н. э.) и Кольчестера в Англии, основанного почитавшим все этрусское императором Клавдием в 49 году н. э. Согласно Полибию, римские военные лагеря тоже строились по предписаниям этрусской науки (disciplina etrusca), а римские поля, по сути, представляли собой «решетки» определенного размера, ориентированные по сторонам света. Римляне признавали, что их внимание к земельному закону идет от этрусков. Внешняя форма этрусских принципов землепользования сохранялась и в новое время, ибо точно такой же, квадратной, ориентированной по четырем сторонам света модели, придерживались при планировании городов и деревень основатели нынешних США. Но в древней Этрурии целью четырехстороннего планирования и сопутствующих церемоний было не просто организационное удобство, но магическая защита поселения и его жителей от любых угроз, исходящих от невидимого мира.
Древнейшие из известных храмов относятся ко времени около 600 года до н. э., а значит, как и в других культурах (от греческой до норвежской, как мы увидим в даль-
[59]
нейшем), им могли предшествовать открытые алтари, окруженные стенами. Один из таких алтарей по-прежнему существовал в Марцабопчх Однако типичный этрусский храм был почти квадратным, в глубину чуть длиннее, чем в ширину, с изысканно украшенным колоннами фасадом и ровными боковыми и задней сторонами (в отличие от храмов греческих, имевших колонны по всем четырем сторонам); внутри он делился на три части, целлы (cellae), для триады божеств. Впрочем, иногда целла (cella) была только одна, с выходившим на одну из сторон флигелем. Стены и крышу обычно делали не из камня, а из дерева; а нависающие карнизы украшали ярко раскрашенными терракотовыми образами. Перед храмом находился алтарь, и вся территория храма огораживалась стеной.
Некоторые божества этрусков, по-видимому, были характерны только для их культуры, но многих этруски позаимствовали у греков. Три главных этрусских божества: Тиння, бог границ и земельного закона (которого легендарный Тагет назвал своим предком), Уни, богиня власти, держащая скипетр, и Меирва, богиня «искусного интеллекта», покровительница ремесленников. «Тиния» — этрусское слово, но римляне отождествили его со своим Юпитером, римским вариантом индоевропейского бога неба. Тиния, по преданию, установил священный земельный закон. Уни — италийская богиня, как по имени, так и по характеру близкая римской Юноне; Меирва — также италийское божество, в Риме известное как Минерва. Эти три божества находились в трех целлах главного храма Римской республики — храма Юпитера, которым, предположительно, клялся царь этрусков Тарквиний Приск около 600 года до н. э., построенный на Капитолийском холме при основании Республики в 509 году до н. э., и просуществовавшего до 83 года до н. э., когда пожар уничтожил деревянную надстройку.
[60]
Варрон утверждает (De Lingua Latina, v. 46), что главным богом этрусков был не Тиния, а Вольтумн (или Вельтун), чье святилище находилось неподалеку от Вол-синий, где ежегодно собирались члены первоначальной Лиги Двенадцати для проведения традиционных церемоний, которые, помимо религиозных обрядов, включали игры, ярмарку, а также разрешение правовых и политических вопросов. В период упадка Этрурии о празднестве забыли, но потом его вновь продлили (возможно, это сделал император Клавдий); оно сохранялось вплоть до четвертого столетия нашей эры, до правления христианского императора Константина. В Волсинии был также храм богини Нортии, иначе звавшейся Артира (вслед за греческой Атрогтос). И в каждом ежегодном празднике высокий сановник этрусков вбивал гвоздь в его стену. Скопление гвоздей, по одному на каждый год, символизировало течение времени: считалось, что когда стена полностью покроется гвоздями, срок, отмеренный цивилизации этрусков, закончится. Этруски почитали богиню неотвратимой Судьбы, Банф; своим изображением на фресках в коротком платье и охотничьей обуви она кажется списанной с греческой Артемиды. Богом смерти у этрусков был Мант, именем которого, как полагали некоторые древние авторы, назвали город Мантуя, а богом подземного мира — Анта. Этруски верили, что после смерти души людей в подземном мире встречают Харон, крылатое чудовище с клювообразным носом, размахивающее деревянной колотушкой; в обители ада обитают и другие крылатые божества. Все эти ужасы, конечно, не вошли в чистом виде в римскую религию, но стали частью маскарадных и праздничных шествий. Римские гладиаторские бон, впервые зафиксированные в 264 году до н. э., вполне могли произойти от этрусского погребального обряда, во время которого три пары воинов сражались насмерть, и уж,
[61]
конечно, тела убитых в римском спектакле с арены цирка убирал слуга, облаченный в одежду, которая имела тот же символический смысл, что и одежда мифического Харона.
Для этрусского общества, видимо, были характерны и фаталистические представления, отсутствовавшие в других культурах северного Средиземноморья. Этруски далеко не всегда боролись со смертью, старались отдалить конец — наоборот, они считали, что люди не в силах противостоять им. Ливии сообщает, что во время осады города Вейи солдаты обманули предсказателя, заставив «выдать» секрет защитников: если осушат Альбанское озеро позади города, Вейи падут. Обнаружив подвох, предсказатель не только не умолчал о ошибке, но, наоборот, горько сетовал на то, что это боги вынудили его раскрыть тайну, после чего дал подробные инструкции, как осушить озеро. Об идее, что все имеет отмеренный ему срок, мы уже говорили в связи с храмом в Волсиниях, где вбивавшиеся каждый год в стену храма гвозди отмеряли время существования цивилизации этрусков. Цензорин в 238 году н. э. писал, что, как полагали этруски, их культуре отмерен срок в десять «веков» (saecula), причем продолжительность их неизвестна. Конец каждого «века» (saeculum) предвещало знамение, интерпретировать которое должны были гаруспики. Пятый «век» начался в 568 году до н. э., когда Этрурия была в зените своего расцвета. Четыре предыдущих длились по сто лет каждый, что в сумме дает нам 968 год до н. э. — время, о наличии в котором этрусской культуры где бы то ни было никаких свидетельств нет. Шестой «век» начался в 445 году до н. э., седьмой — в 326 году до н. э., а восьмой — в 207 году. В 88 году до н. э., когда политическая власть этрусков уже давно находилась в тени римской, гаруспики объявили о начале девятого «века». А после смерти Цезаря, когда, по словам Шекспира, «мер-
[62]
твецы в простынях пищали и тараторили на улицах», гаруспик Вулкатий провозгласил начало десятого «века», закончившегося со смертью императора Клавдия в 54 году н. э., «необходимыми» знамениями которого стали появление кометы и молния, ударившая в усыпальницу отца покойного императора.
[63]
Цитируется по изд.: Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы. СПб., 2000, с. 53-63.
Литература
159. Jones, Prudence (1989) Celestial and terrestrial orientation, in Annabella Kitson (ed.), History and Astrology, London: Unwin Hyman.
168. Keller, W.J. (1975) The Etruscans, London: Cape.
228. Nance R.M. (1935) The Plen an Gwary, Journal of the Royal Institute of Cornwall, vol 24, pp. 190-211.
235. Ogilvie R.H. (1976) Early Rome and the Etruscans, London: Oxford University Press.
293. Santillana, G. de and Dechend, H. von (1969, 1977) Hamlet's Mill, Boston: Godine.
304. Scullard H.H. (1967) The Etruscan Cities and Rome, London: Thames & Hudson.
359. Zosimus (1967) Historia Nova, trans. J. Buchanan, San Antonio: Trinity University Press.